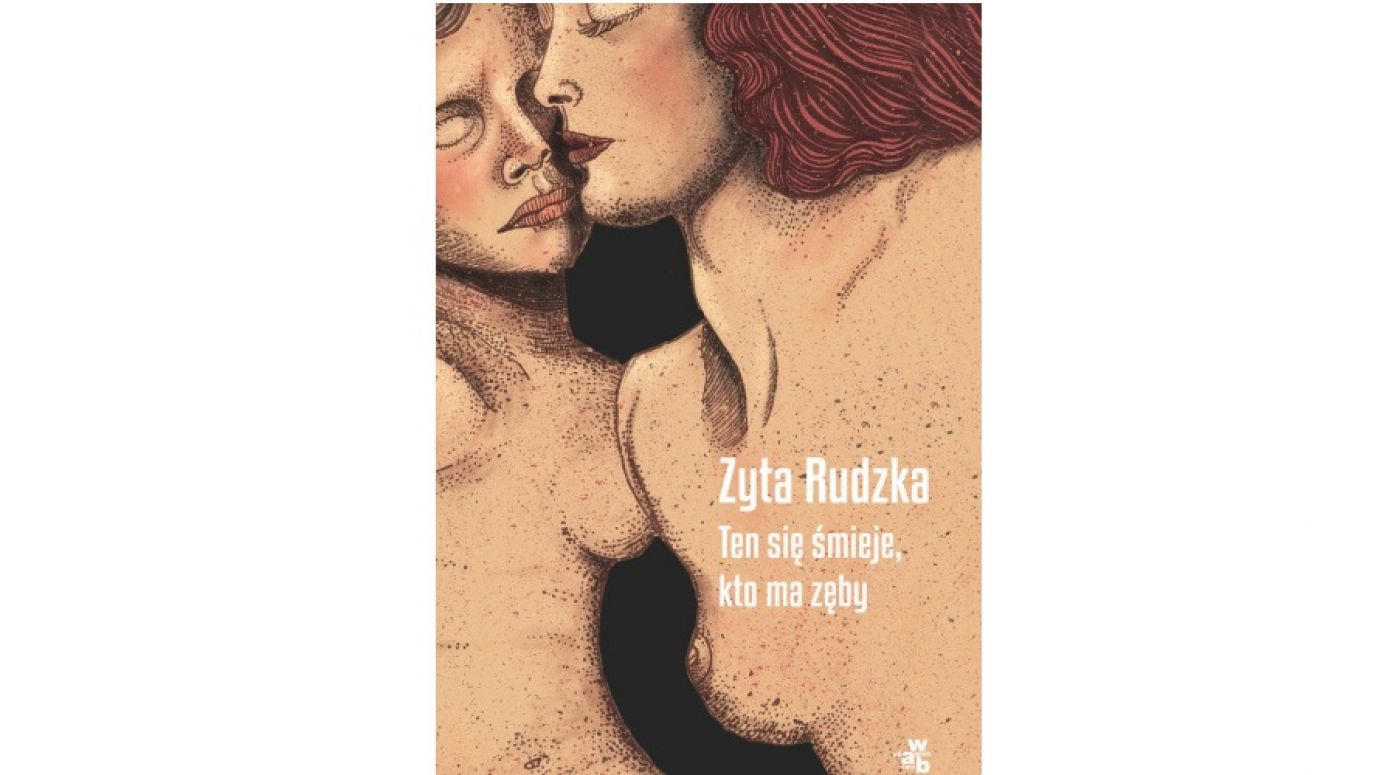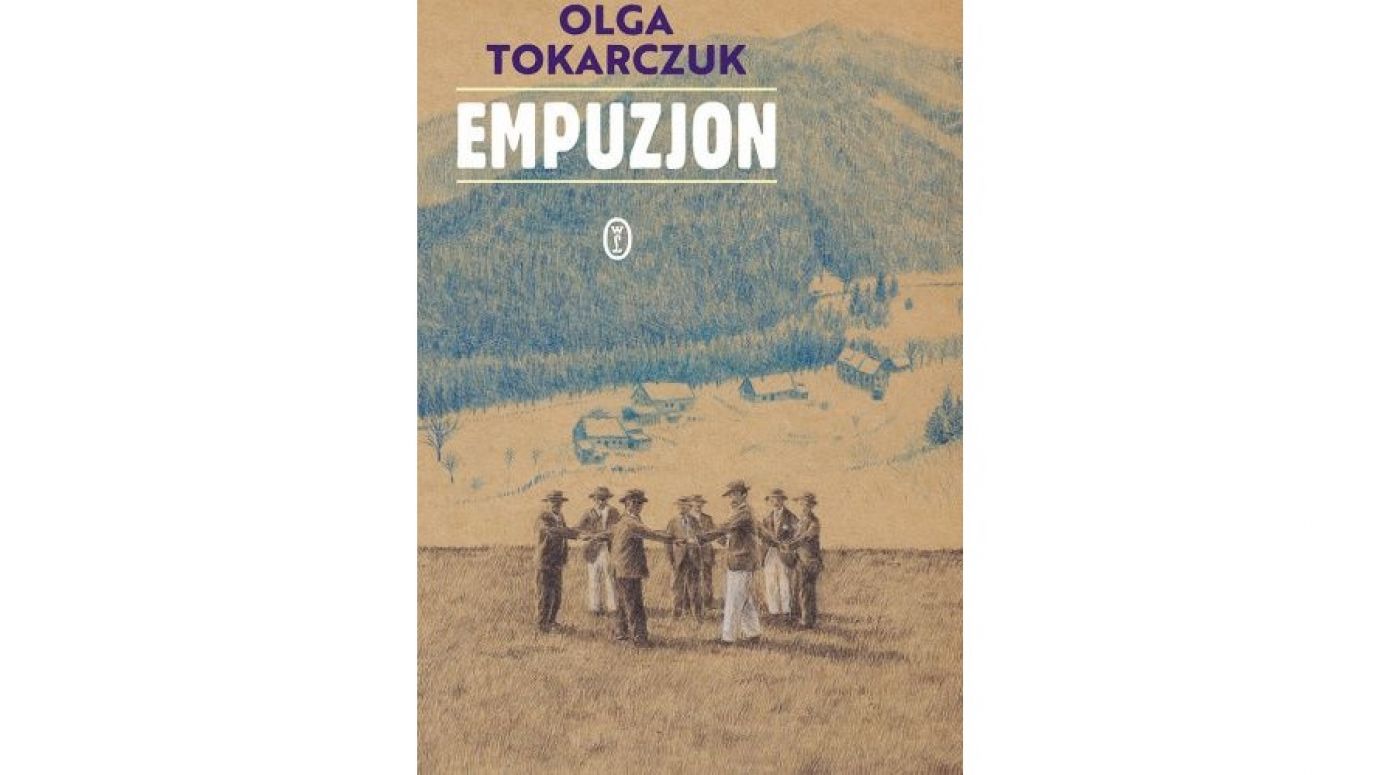Первой из этих книг является
„Bella, ciao” Петра Семьона (Издательсвто “Filtry”, 2022), второй –
"План Кищака" Войцеха Чабановского (Издательсвто “Novae Res”, 2022). И один, и другой придут ко мне за подведением итогов и разгадкой, что простительно, поскольку "Bella, ciao" была опубликована весной, так что все уже успели ее обсудить или, по крайней мере, пересказать, а "План Кищака", еще теплый (декабрь), изобилует анонсами поворотов и синопсисами уже на крыльях и последней странице обложки.
"Bella, ciao" рассказывает о нескольких днях весны после долгой, опустошительной и перемещающей миллионы войны. Мы находимся на постгерманских западных территориях, у нас есть изгнание белорусов из глубины страны, армия, которая якобы сотрудничает с Советами и подчиняется им, хотя втайне ненавидит их, и группа "ненавистников", которым не нужно скрывать свою ненависть, но нужно скрывать себя, если они хотят прорваться на Запад.
Разве что Запада практически нет, есть ничейные земли и транспорты советской армии, нещадно пьющие, насилующие и ворующие. Это может быть 1945 год, это может быть проза Конвицкого или "Пешком" Мрожека, "Первый день свободы" или "Закон и кулак" - если бы не предположение о недавнем ударе ядерной бомбы (которой у Советов не было в 45-м, однако) и другие подсказки, показывающие, что это не просто
remake 1945 года, а скорее очередная часть той же трагедии.
"План Кищака" - это удивительная глупость, переворачивающая все святыни и знаки, словно на карнавальном костюмированном шествии, когда осел обнажает уши из-под насаженной на него епископской тиары: Достаточно сказать, что история начинается с объявления Войцехом Ярузельским войны Советскому Союзу 13 декабря 1981 года... - а затем набирает обороты, когда место действия (и театр боевых действий) перемещается на Волынь и под Киев, а к борьбе присоединяются оставшиеся в живых "проклятые" с военных лет "Солидарность", ЦРУ и УПА.
Где же "вечная польскость"?
Убийственный коктейль, как "белый медведь" (сухое игристое вино, в которое налит стакан хорошо охлажденного спирта) - и в случае с Симионом это то же самое, только более горькое и менее концентрированное, так что сначала отрываются ноги, потом сознание. Но оба романа играют на нашей самой больной исторической памяти, на наших самых ярких идентификациях (мы - изгнанные, мы - "Армия тыла", мы - "Солидарность" и подполье) и - ПРЕВОСХОДЯТ ИХ.
В обоих романах (простите, это последний спойлер) квази-проклятые и квази-солдаты Народной Польши, ополченцы Кищака и загонцы из Подкарпатья - в ситуации, когда мир перевернулся и магнитные полюса сместились - наконец объединяются, отбрасывая свои квази-партийные или, во всяком случае, политические идентификации в пользу польского дела, более древнего (и более великого), чем любая организация, какой бы близкой она ни была.
Если это не выражение фатальной усталости от прозябания Польши в двух враждебных окопах, тоска по тому, что Ягеллонский клуб несколько лет назад назвал "инклюзивной польскостью", полифонической, объединяющей и связывающей - тогда я не знаю, какой еще сигнал нужен читателю, чтобы заметить эту тоску.
– Войцех Станиславский
-Перевод Александр Кравченко
TVP ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК. Редакторы и авторы

 Подписывайтесь на наш фейсбук
Подписывайтесь на наш фейсбук
 Поэтому вместо рейтинга и призовых мест я предложу (раньше это была модная формула среди филологов, спасибо профессору Марии Джанион) более открытую форму. Я хотел бы отметить несколько явлений, несколько взглядов и способов называть мир, которые произвели на меня особое впечатление в польских романах, опубликованных за последний год. Литература - это, конечно, не просто "зеркало, прогуливающееся по гостевому дому". - Эта восхитительная формула Стендаля, блестяще отражающая амбиции и возможности зарождающегося реализма XIX века, тем не менее, не делает справедливости по отношению ко всем тем, кто имеет творческие, а не репортажные амбиции, кто хочет вызвать к жизни новые сущности и миры, а не каталогизировать существующие. Но, за исключением творчества самых извращенных визионеров и постмодернистов (хотя и они порой являются если не отражением, то негативом господствующих вокруг них убеждений, веры и обид), литература - это еще и зеркало, и свидетельство. "Ведь в поэзии есть эпохальная соль" - можно перефразировать строчку из "Поэтического трактата". И в прозе тоже.
Поэтому вместо рейтинга и призовых мест я предложу (раньше это была модная формула среди филологов, спасибо профессору Марии Джанион) более открытую форму. Я хотел бы отметить несколько явлений, несколько взглядов и способов называть мир, которые произвели на меня особое впечатление в польских романах, опубликованных за последний год. Литература - это, конечно, не просто "зеркало, прогуливающееся по гостевому дому". - Эта восхитительная формула Стендаля, блестяще отражающая амбиции и возможности зарождающегося реализма XIX века, тем не менее, не делает справедливости по отношению ко всем тем, кто имеет творческие, а не репортажные амбиции, кто хочет вызвать к жизни новые сущности и миры, а не каталогизировать существующие. Но, за исключением творчества самых извращенных визионеров и постмодернистов (хотя и они порой являются если не отражением, то негативом господствующих вокруг них убеждений, веры и обид), литература - это еще и зеркало, и свидетельство. "Ведь в поэзии есть эпохальная соль" - можно перефразировать строчку из "Поэтического трактата". И в прозе тоже.